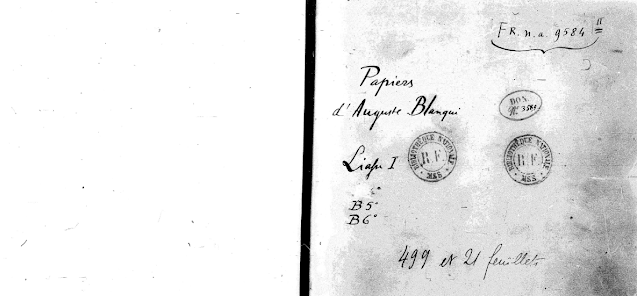Почему искусство политично?
Матеріал вперше був запропонований на теоретично-експериментальному модулі «Позиції художника», що його проводив Methodfund у 2020 році, де мене було запрошено взяти участь у семінарі як вільного дослідника.
* * *
Ставить задачу написания эссе – этого хваленого в академических кругах способа
изложения, цель которого скорее прояснение, нежели исследование той или иной темы – в
столь короткий срок означает заранее учитывать потенциальную декомпозиционность текста
и, конечно же, во множестве пунктов делегирование теоретических полномочий
читательнице/-лю. Господь – свидетель, если бы эта задача была озвучена раньше, то я бы
повременил с таким количеством домашнего вина, которое было мне вручено пару дней
назад в качестве презента. Впрочем, делегировать полномочия другому – это как раз нечто
такое, во что устремилось художественное созвездие XIX века; ситуация пресловутого
раскола не только классическо-романтической линии с импрессионизмом, обличьем которого
неизменно выступает Мане, но и раскол, возможно, куда более утонченный – Месонье, Энгр,
Кабанель, Курбе, Делакруа и многие другие. С одной стороны нельзя не увидеть их общность
в решениях касательно предшествующей им миметической и фигуративной репрезентации, а
с другой стороны, здесь наличествует подозрительная инаковость в стратегическом
поведении, вследствие чего прошлые художественные формы были выветрены, а радикально
новый язык визуального еще не был адекватно артикулирован, в частности из-за
методологической кастрации господствующего дискурсивного аппарата.
Полагаю, что мы немного потеряем, если наскоро назовем матрицей истории искусства именно XIX век. Нам не понадобится далеко ходить, дабы обратить внимание на свежую академическую дисциплину под названием "история искусств", что при попытках овладеть методами историцистского и эволюционного мышления (кто не вступал в полемику с г-ном Дарвином?) в то же время систематически вытесняла современные произведения искусства из классификационных схем объяснения. Малларме – полемизируя в 1874 году с жюри Салона по поводу полотна Мане и упираясь в пустоту – наверняка думал о том, что в этой беседе ему остро не достает кавалерийской шпаги времен Наполеона. Конечно, уже последующие поколения историков включили современную живопись в Историю посредством все того же целостного терминологического аппарата, коим они прорабатывали и искусство, например, поздней античности, однако некая часть современности была утеряна, а точнее ее сущностное различие.
В то время – ввиду а) появления дискурсивного образования, кое мы условно назвали "историцистским" и кое могло возвращаться к различным формам, разворачивающимся во времени и тем самым их институционализировать (здесь нужно признать, что возможность вернуться в любой момент Истории и переиграть его в том фрейме, что предлагает Беньямин, собственно, не есть открытием Беньямина; скорей последний является в позитивном смысле жертвой тех структур образования, подобно тому как Маркса следует мыслить не только как одаренного гением мыслителя, но и как вполне исторически закономерный продукт академического положения Германии, примерно первой половины все того же XIX века); дальше следует б) это общественно-политические трансформации, предполагающие культуризацию большей части населения, а также досуг: не только появление публичных музеев, но и пассажи, ботанические сады, музеи восковых фигур, железнодорожные вокзалы и станции, магазины и прочее развлекалово; и, наконец в) повсеместная индустриализация, которая ставит художника перед серьезным выбором, и та индустриализация, на которую с пеной у рта нападал Бодлер после посещения Всемирной выставки в Париже в 1855 году, увидев, образно выражаясь, в одном ряду полотно Делакруа и электрочайник – всё это, при должном желании, подводит нас к объяснению того, почему художники той эпохи наделяют себя теоретическими полномочиями и изобретают стратегические поведения, моделируют собственные планы по отстаиванию имени искусства, "опыт шока", осуществляют ретроспективные переистолкования и борются за право бытия-художником-как-такового.
На поверхности лежит разница между прошлыми трактатами живописи, где старые мастера повествовали о технических рекомендациях (как правильно подготовить холст, как правильно растирать краски) и на тот момент современными трактатами, для которых ввиду индустриализации существовала возможность приобретения тех же фабричных красок в тюбиках, а потому речь заходила уже не так о ремесле, как скорее о стратегическом делании.
Очевидно, многие художники (современные в том числе) застают себя в замешательстве по поводу теоретической легитимации собственных произведений; не всегда им приятно, когда их произведения глядят на зрителя в установленной теоретической перспективе, поскольку художник так или иначе стремится к приросту аудитории, а теория, напротив, эту аудиторию то ли дело сужает. Хотя корни "потребности в комментарии" идут далеко не с предмодерного времени: здесь уместно вспомнить коллекционера Паоло Джовио, создателя Музея в 1543 году, который в письме другу касательно своего Музея уже дает четко понять, что картина без описания немыслима. У нас нет времени вдаваться в анализ музея как институции или зон компетентности тех или иных исторических фигур, но при этом можно заметить, каким рельефом выступает надобность в теоретизации художественной прагматики сейчас. Невозможно отрицать историю, не вбирая задним числом ее достижения; чтобы что-то деконструировать, необходимо сначала это построить. Вероятно, хороший художник – это тот художник, который прежде чем приняться за работу сначала объясняет ее сам для себя. Пусть это будет гегелевское "бытие-для-себя", что тождественно бытию-для-другого. Теоретизация искусства – это взятие той ответственности на себя, внутри которой возможны последствия собственного поступка.
Следующим шагом (и это самая привлекательная услада для методологинь/-ологов) является анализ переобращения переспективы оценивания и критериев современного произведения искусства: почему ставшей традиционной постановка вопроса о легитимации искусства уже больше чем полтора века всё не меняется? как организован дискурсивный корпус, от которого отталкиваются современные художники и теоретики искусства, каковы пружины этого дискурса? какое место в этой канве, развернувшейся на главсцене занимает вопрос повторения, и какие могут быть предложены оценки этому повторению? Публичное место служит сценой истории.